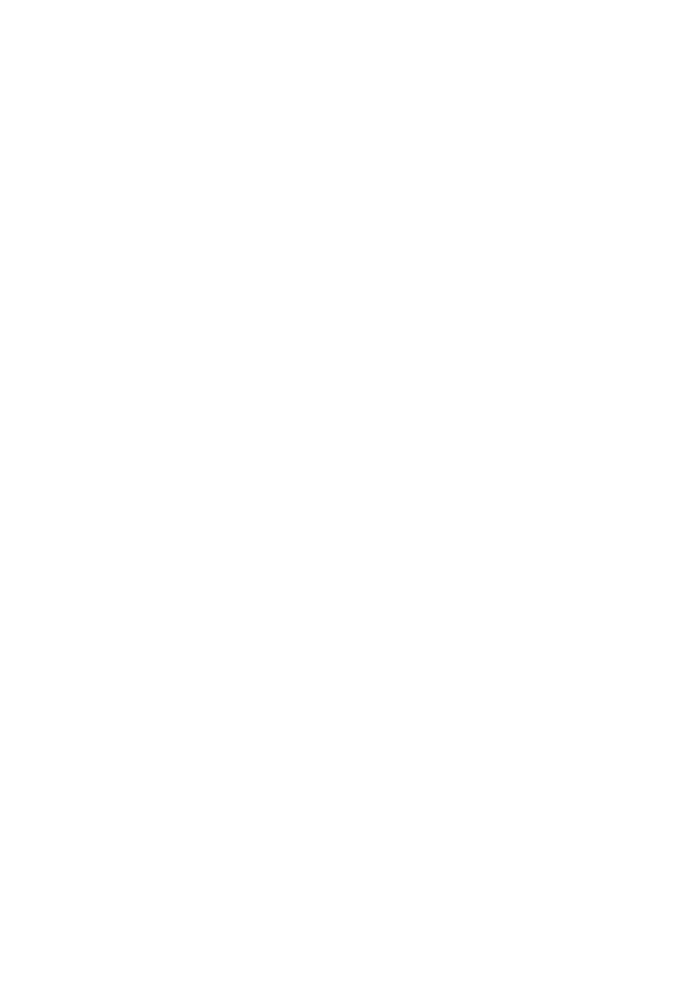Эксклюзивно для вас
Публикуем главу из романа
Глава 31
Люди
Париж, начало 1900-х
Похоже, что в этот вечер все парижане, как сговорившись, пришли ужинать в заведение Розалии. У входа стоит десяток человек, которые болтают и смеются. Внутри все столики заняты, народ сидит бок о бок. Розалия, заметив нас, подходит и обращается по-итальянски ко мне и Джино.
— Не пугайтесь, я их сейчас выгоню. Для вас я найду место. Еще не хватало, чтоб я не накормила единственных итальянцев, которые сюда пожаловали.
— Розалия, нас шестеро, — уточняет Джино.
— Ну и что? Я же сказала, что накормлю вас. Дай мне пару минут.
Розалия удаляется. Я замечаю за одним из столиков немолодую, но привлекательную даму с умным, глубоким и проницательным взглядом. Рядом с ней двое молодых людей, один пьет и внимательно ее слушает, а другой опустил голову на стол и, похоже, спит. Джино тоже замечает даму, подходит к ней, и они обмениваются поцелуем в щеку; Джино здоровается с первым мужчиной крепким пожатием руки, затем оборачивается и представляет меня.
— Это мой друг Амедео, итальянец.
Я подхожу ближе и пожимаю руку женщине.
— Сюзанна Валадон…
— Амедео Модильяни.
— А это Андре Уттер…
Я пожимаю руку и ему, затем Сюзанна указывает на спящего и говорит безразличным тоном:
— Это мой сын Морис… он немного перепил, обычное дело.
Морис, будучи пьяным, но не глухим, услышал слова матери; он открывает глаза и поднимает голову.
— Джино… Мне рассказывали про твоего друга, — Морис показывает на меня. — Наша милая Розали влюблена в него.
— Просто он единственный, кто платит за всех.
Морис пристально смотрит на меня и медленно произносит:
— Вот увидишь, когда у тебя не останется ни одного франка, кто-нибудь тебе поможет, — но не из тех, кому помог ты.
Джино пытается защититься:
— Морис, ну что такое ты говоришь? Я всегда помогаю друзьям.
— Когда?
— Когда могу себе это позволить.
— Вот именно.
Морис обрушивает голову на стол. В этот момент нас зовет Розалия:
— Эй, сюда, столик освободился.
Пока мы идем к Розали, Джино, догадавшись о моем любопытстве, дает разъяснения:
— Сюзанна Валадон — единственная женщина-художница, которую приняли в Национальное общество изобразительных искусств. В молодости она занималась другими вещами. Воздушная акробатка, цирковая наездница, женщина-канатоходец, натурщица, любовница очень известных мужчин…
Мы садимся за стол, к нам присоединяются Людвиг, Мануэль, Макс и Моисей.
— Мужчин какого типа?
— Художников… прежде всего, Ренуара.
— Она была любовницей Ренуара?
— Многие годы.
Макс Жакоб, услышав наш разговор, тут же демонстрирует прекрасную осведомленность:
— Сюзанна ему позировала, а потом они стали заниматься не только живописью — и были застуканы женой Ренуара.
Стиль повествования Макса превращает историю любви и измены в приключенческий и загадочный сюжет.
— Они были вынуждены перестать встречаться. Но она не упала духом — и потом была любовницей Тулуз-Лотрека, Дега, Де Ниттиса, Эрика Сати… Какая женщина! Подумайте только, она феноменальна. Получить знания и обучиться мастерству — в постели экстраординарных мужчин. Я бы тоже так хотел. А ты, Амедео?
Я не могу сдержать смех.
— Нет, Макс, я нет.
— Почему?
— Я предпочел бы стать одним из таких экстраординарных мужчин.
Появляется Розалия с дымящимися тарелками.
— Вам придется довольствоваться тем, что осталось.
Розалия, пока ставит тарелки на стол, замечает внимание Макса по отношению ко мне.
— Он что, пристает к тебе? Что этот педик себе позволяет?
Мы с Джино смеемся.
— Розалия, не волнуйся, он очень вежливый.
Розалия обращается к Максу на своем чочарском диалекте:
— Если не оставишь в покое моего друга, я тебе кишки выпущу.
Макс молча смотрит на нее; к великому счастью, он ничего не понял, но улыбается.
— Что она сказала?
— Это итальянская шутка, — я успокаиваю его.
— Так вот, Амедео: я говорил, что Валадон, благодаря тому, что позировала для известных художников, начала осваивать профессию. За короткое время она стала художницей. Лотрек ее воодушевил, а Дега был ее наставником. Но понадобилось достаточно времени, чтобы в мужском обществе художников приняли и поняли ее талант.
— А что насчет сына?
У всех смущенные и озабоченные лица. Макс объясняет:
— Отец неизвестен. Через несколько лет его усыновил испанский журналист. Морис тоже художник, его обучила Сюзанна. Однажды кто-то напишет об их истории.
Мануэль включается в разговор:
— Макс, почему бы тебе об этом не написать?
— Это невозможно.
— Почему?
— Потому что это прекрасная история, но она еще не закончена. Видишь того молодого человека? Это Андре Уттер, новая пассия Сюзанны. Он ровесник Мориса, на 23 года младше ее. Она бросила богатого мужа, чтобы вести богемный образ жизни с Андре. Очень поэтично, правда? Они очень привязаны друг к другу. Она много раз писала его обнаженным. Они ходят развлекаться и выпивать втроем. А Морис несчастен и страдает эпилепсией.
После этой фразы я смотрю на полулежащего на столе Мориса с сочувствием. В нем есть что-то, что меня привлекает, особенно сейчас, после того, как я узнал о его болезни. Макс продолжает:
— В их жизни есть эпизоды для романа, полного волнующих страстей. Они живут втроем в скромном доме, Сюзанна зарабатывает продажей своих картин и картин сына. Работы Андре не очень хорошо продаются. На Монмартре их называют «проклятой троицей».
— Я не вижу в них ничего проклятого. — Мануэлю не нравится это прозвище. — Андре действительно любит Сюзанну. Я никогда его не видел с другими женщинами. Она много развлекалась в прошлом, а сейчас, похоже, остепенилась. Про Мориса можно лишь сказать, что если бы не его ужасное детство, он был бы другим человеком.
Я заинтересован еще больше.
— А какое у него было детство?
— Сейчас Сюзанна спокойная, уравновешенная, она всегда рядом с Морисом. Молодость же ее была бурной, ей нравилось гулять по ночам, встречаться с мужчинами. Мориса она бросала одного.
Макс уточняет:
— Сюзанна знает, что это ее ответственность и что бесхарактерность Мориса — в том числе и ее вина. Что ужасно, так это насмешки и издевательства в отношении Мориса. Даже художники и люди широких взглядов плохо с ним обращаются. Богемный образ жизни их не сдерживает. Буржуазное поведение сложно изменить.
После того, как мы поели, мои друзья принялись пить. Насколько я понял, все нашли деньги на этот вечер, чтобы оплатить счет Розалии. Я больше не в состоянии оплачивать обеды и ужины за всех, я уже потратил половину привезенных с собой денег. Пошли слухи, что Модильяни всех угощает. Я не работаю, плачу за жилье, за еду и за обучение в академии Коларосси. Впрочем, своей первоначальной щедрости я обязан тем, что принят в круг художников.
Тучный молодой человек с приятным, мягким лицом и слегка изогнутым носом разговаривает с Максом Жакобом. Молодой человек одет как денди, но весь вспотел, как будто долго бежал. Он поворачивается ко мне по указке Макса и улыбается. Я улыбаюсь в ответ. Они знаком подзывают меня к себе.
— Амедео, познакомься, это Гийом Аполлинер.
— Очень приятно.
Я протягиваю ему руку, он ее пожимает и удерживает.
— Я очень рад знакомству. В конце концов, Париж — большая деревня. Особенно в нашем окружении. Слух уже распространился.
— Простите, какой слух?
— Прошу тебя, давай на «ты».
— Хорошо. Так какой слух распространился?
— Что один молодой итальянец дискутирует с Пикассо на равных, привлекая всеобщее внимание.
— А это странно?
— Знаешь, это не я решаю. Это решают люди, которые вас слышали. Я спрашивал у Макса его «трактовку».
— А нужен трактовщик?
— Разумеется. Кто-то, кто умеет рассказывать с должным мастерством и критической основательностью.
— Вы хотите сказать, что пара слов, которыми я обменялся с Пикассо, во всем этом нуждается?
— Ты хочешь умалить свои достижения? Это редкость в Париже. Здесь скромность не популярна. Но если ты, напротив, решил принизить Пикассо, то такое здесь тем более не приветствуется.
Макса очень веселит слушать Аполлинера и смотреть на мое недоверчивое и изумленное лицо. Гийом же продолжает:
— Если же, насколько я понимаю, ты преуменьшаешь важность вашей встречи, тогда я тебе скажу, что ты не умеешь пользоваться случаем.
— Каким случаем?
— Во-первых, показать свои картины Пабло. Во-вторых, показать свои картины другим художникам. В-третьих, показать свои картины владельцам художественных галерей.
— Но у меня нет картин.
Гийом резко поворачивается к Максу Жакобу:
— Как же так? Ты мне сказал, что он художник.
— Мне так сказал Мануэль Ортис де Сарате.
— Да, я художник, я бы хотел и ваять, — но я еще ничего не сделал в Париже.
Макс гладит меня по голове и говорит в шутку:
— Бедненький, он приехал пару месяцев назад. Ему нужно дать время.
— Пару месяцев? Почему же мы раньше не встречались?
Макс все больше веселится.
— Я задаюсь тем же вопросом, я сам только сегодня с ним познакомился. Мой дорогой Гийом, иногда жизнь несправедлива.
— До такой степени?
Они подшучивают надо мной! Гийом кладет руку мне на плечо.
— Пользуясь общими знакомствами, я тебя попрошу в следующий раз предупреждать о своем намерении куда-то пойти, как сегодня. Я должен приносить пользу парижскому художественному бомонду и, в соответствии с контрактом, должен быть в курсе всего происходящего.
— С контрактом? Каким контрактом?
— С самим собой. Я выполняю неблагодарную работу писателя, поэта и, прежде всего, критика.
— Ты художественный критик?
Макс приходит мне помощь, все так же шутя:
— Критик, который ничего не понимает в искусстве, в особенности в живописи, и не может отличить олеографию от оригинала.
— Отсутствие знаний техник разве мешает быть знатоком красоты?
— А ты знаток?
— Определяющая фигура в создании чужой славы. Помни об этом.
Макс отпускает язвительную шутку:
— Аполлинер может объявить человека гением с такой уверенностью, что заставит всех в это поверить.
— Неблагодарное дело. Я бы хотел, чтобы кто-то сделал нечто подобное в отношении моей поэзии и литературных произведений.
— Друг мой, достаточно найти кого-то, кто не разбирается в литературе так же, как и ты в искусстве.
— Я заслужил доверие благодаря некомпетентности. Амедео, ты уже принадлежишь к какому-либо художественному течению?
— Я не знаю, в Италии не так много художественных течений…
Он меня перебивает:
— Я говорю о Париже.
— Нет, я здесь еще не думал о том, к какому течению…
— В предстоящие месяцы многое произойдет, и, знаешь, некоторые итальянцы двигаются в этом направлении с помощью нашего друга Джино Северини.
— Да, мне кажется, я понимаю, о чем ты.
— Ладно, когда ты решишь, к какому течению принадлежишь, скажи мне об этом; так ты избавишь меня от ненужных усилий. Знаешь, как порой сложно установить этот факт про художника, основываясь лишь на незначительных нюансах? Трактовка меня сильно утомляет и смертельно надоедает.
У меня страшное желание выкурить тосканскую сигару. Розалия заказывает сигары в Италии, я купил у нее пару штук и вышел покурить. Ночной воздух прохладен, приближается парижская весна. Мне нужно подумать о том, что сказал Аполлинер. Я никто, я делаю только наброски, не принадлежу ни к какому направлению, стилистические течения мне не интересны.
Хлопает дверь ресторана. Я оборачиваюсь и вижу, как выходит Морис, шатаясь и держась за кирпичную стену. Он доходит до угла и сгибается; его рвет, из него выходит все выпитое вино. Затем он, качаясь, доходит до дерева и грузно садится на землю. Он сидит неподвижно, опираясь спиной на ствол. Я подхожу к нему.
— Все в порядке? Тебе плохо?
— Плохо? Я не знаю.
— Тебя только что вырвало.
— Правда?
— Я могу тебе помочь?
— А ты доктор?
— К сожалению, нет.
— Ты же тот итальянец, который к нам подходил?
— Да, мы уже познакомились, меня зовут…
— Амедео?
— Да, верно.
— Видишь? Не такой уж я и пьяный.
— Действительно.
— Я сын Валадон, Морис. — Он рассмеялся. — Да, Морис. Сын Валадон… Но моя фамилия не Валадон. — Он продолжает смеяться. — Моя фамилия — Утрилло, Морис Утрилло, художник и литограф. Что это за вонючая штука, которую ты куришь?
— Тосканская сигара…
— Что тебе это дает?
— В каком смысле?
— Тебе становится хорошо?
— Это просто итальянская сигара.
— А зачем ты ее куришь?
— У нее приятный аромат.
— Только из-за этого? У нее нет другого эффекта?
— Например?
— Забыться.
— Я не хочу забыться.
— Везет тебе. А я должен.
— Должен? Никто не должен. В любом случае это просто сигара; я даже не затягиваюсь.
— А какой в ней смысл?
— А все должно иметь смысл?
— Не для меня… но я всего лишь сын Валадон. Для меня ничто не имеет смысла, особенно если я недостаточно пьян.
— Ты сложный тип.
— Вовсе нет. Достаточно посмотреть на мои картины. Самые банальные в Париже.
— А кто это говорит?
— Все. Если и не говорят, то думают так. Картины моей матери интереснее.
Морис улыбается и облокачивается головой о ствол дерева.
— Модильяни, должно быть, ты прекрасный человек. Скажи мне, что ты здесь делаешь?
— А ты что тут делаешь?
— Я здесь родился.
— А я приехал сюда, потому что все говорили только о Париже.
— Тебе нравится?
— Как Париж может не нравиться?
— Я тоже так говорю. Как может не нравиться этот город? Ведь я его рисую. Непрерывно. Поэтому говорят, что я банален. Потому что пишу то, что уже существует.
— Мои тосканские учителя пишут только пейзажи. Маккьяйоли.
— Ты произнес это слово как оскорбление.
— Нет, просто мне это неинтересно.
— Значит, я тебе тоже буду неинтересен.
Морис поворачивается и смотрит на меня какое-то время.
— Модильяни, ты не выглядишь счастливым.
— Ты тоже.
— Одни отчаиваются, когда теряют богатство. Мне же до богатства нет дела. Другие отчаиваются, когда теряют здоровье. Я немного беспокоюсь о здоровье, но не слишком. Знаешь, почему?
— Почему?
— Потому что у меня его никогда не было. Чего мне действительно не хватает, так это мужества противостоять всему. Оно приходит и уходит, но в основном уходит.
Спустя лишь пару минут после знакомства я уже чувствую, что он такой же, как я. Это самый гуманный человек из всех, кого я встречал в Париже. Он первый, кто не говорит сразу же об искусстве, работе, течениях, бомонде. Я словно смотрю в зеркало, которое отражает мою невозможность противостоять каждому дню.
— Модильяни, ты богат?
— Я? Я тебе кажусь богатым?
— Да. Ты элегантно одет, у тебя аристократический вид. Что ты делаешь среди этих людей, у которых нет ни гроша?
— Я не богат.
— Если ты не богат, то тебе не следует им казаться, иначе они сдерут с тебя все деньги. Ты давно с ними общаешься?
— С Мануэлем и Джино я познакомился в Венеции. С остальными недавно.
— Тебе нравятся женщины?
— Это странный вопрос.
— Нет. Если тебе нравятся женщины, то тебе нужно общаться с Джино, а если мужчины, тогда с Максом.
— Я предпочитаю женщин. А тебе кто нравится?
— Женщины. Но я им не нравлюсь.
— Возможно, тебе следует меньше пить?
— Я им не нравлюсь, даже когда я трезв. Ты, напротив, нравишься и мужчинам, и женщинам, и трезвый, и пьяный.
— Это комплимент?
— Разумеется.
В этот момент из ресторана выходит Джино — с четырьмя девушками, милыми, веселыми и возбужденными.
— Амедео, какие планы? Идешь с нами?
— Куда?
— Одна из этих девушек выступает с песнями и танцами в очень необычном месте.
— В каком?
— В квартире Мануэля.
— Отлично! Морис, ты присоединишься к нам?
— Я? Нет, я на ногах еле держусь.
Мануэль выходит из ресторана вместе с Людвигом. Я смотрю на Мориса.
— Ты правда не сможешь идти?
— Ты сомневаешься? Поверь, я буду обузой. Я не смогу произвести хорошее впечатление, как ты. Иди, Модильяни! Осеменяй Париж!
— Не пугайтесь, я их сейчас выгоню. Для вас я найду место. Еще не хватало, чтоб я не накормила единственных итальянцев, которые сюда пожаловали.
— Розалия, нас шестеро, — уточняет Джино.
— Ну и что? Я же сказала, что накормлю вас. Дай мне пару минут.
Розалия удаляется. Я замечаю за одним из столиков немолодую, но привлекательную даму с умным, глубоким и проницательным взглядом. Рядом с ней двое молодых людей, один пьет и внимательно ее слушает, а другой опустил голову на стол и, похоже, спит. Джино тоже замечает даму, подходит к ней, и они обмениваются поцелуем в щеку; Джино здоровается с первым мужчиной крепким пожатием руки, затем оборачивается и представляет меня.
— Это мой друг Амедео, итальянец.
Я подхожу ближе и пожимаю руку женщине.
— Сюзанна Валадон…
— Амедео Модильяни.
— А это Андре Уттер…
Я пожимаю руку и ему, затем Сюзанна указывает на спящего и говорит безразличным тоном:
— Это мой сын Морис… он немного перепил, обычное дело.
Морис, будучи пьяным, но не глухим, услышал слова матери; он открывает глаза и поднимает голову.
— Джино… Мне рассказывали про твоего друга, — Морис показывает на меня. — Наша милая Розали влюблена в него.
— Просто он единственный, кто платит за всех.
Морис пристально смотрит на меня и медленно произносит:
— Вот увидишь, когда у тебя не останется ни одного франка, кто-нибудь тебе поможет, — но не из тех, кому помог ты.
Джино пытается защититься:
— Морис, ну что такое ты говоришь? Я всегда помогаю друзьям.
— Когда?
— Когда могу себе это позволить.
— Вот именно.
Морис обрушивает голову на стол. В этот момент нас зовет Розалия:
— Эй, сюда, столик освободился.
Пока мы идем к Розали, Джино, догадавшись о моем любопытстве, дает разъяснения:
— Сюзанна Валадон — единственная женщина-художница, которую приняли в Национальное общество изобразительных искусств. В молодости она занималась другими вещами. Воздушная акробатка, цирковая наездница, женщина-канатоходец, натурщица, любовница очень известных мужчин…
Мы садимся за стол, к нам присоединяются Людвиг, Мануэль, Макс и Моисей.
— Мужчин какого типа?
— Художников… прежде всего, Ренуара.
— Она была любовницей Ренуара?
— Многие годы.
Макс Жакоб, услышав наш разговор, тут же демонстрирует прекрасную осведомленность:
— Сюзанна ему позировала, а потом они стали заниматься не только живописью — и были застуканы женой Ренуара.
Стиль повествования Макса превращает историю любви и измены в приключенческий и загадочный сюжет.
— Они были вынуждены перестать встречаться. Но она не упала духом — и потом была любовницей Тулуз-Лотрека, Дега, Де Ниттиса, Эрика Сати… Какая женщина! Подумайте только, она феноменальна. Получить знания и обучиться мастерству — в постели экстраординарных мужчин. Я бы тоже так хотел. А ты, Амедео?
Я не могу сдержать смех.
— Нет, Макс, я нет.
— Почему?
— Я предпочел бы стать одним из таких экстраординарных мужчин.
Появляется Розалия с дымящимися тарелками.
— Вам придется довольствоваться тем, что осталось.
Розалия, пока ставит тарелки на стол, замечает внимание Макса по отношению ко мне.
— Он что, пристает к тебе? Что этот педик себе позволяет?
Мы с Джино смеемся.
— Розалия, не волнуйся, он очень вежливый.
Розалия обращается к Максу на своем чочарском диалекте:
— Если не оставишь в покое моего друга, я тебе кишки выпущу.
Макс молча смотрит на нее; к великому счастью, он ничего не понял, но улыбается.
— Что она сказала?
— Это итальянская шутка, — я успокаиваю его.
— Так вот, Амедео: я говорил, что Валадон, благодаря тому, что позировала для известных художников, начала осваивать профессию. За короткое время она стала художницей. Лотрек ее воодушевил, а Дега был ее наставником. Но понадобилось достаточно времени, чтобы в мужском обществе художников приняли и поняли ее талант.
— А что насчет сына?
У всех смущенные и озабоченные лица. Макс объясняет:
— Отец неизвестен. Через несколько лет его усыновил испанский журналист. Морис тоже художник, его обучила Сюзанна. Однажды кто-то напишет об их истории.
Мануэль включается в разговор:
— Макс, почему бы тебе об этом не написать?
— Это невозможно.
— Почему?
— Потому что это прекрасная история, но она еще не закончена. Видишь того молодого человека? Это Андре Уттер, новая пассия Сюзанны. Он ровесник Мориса, на 23 года младше ее. Она бросила богатого мужа, чтобы вести богемный образ жизни с Андре. Очень поэтично, правда? Они очень привязаны друг к другу. Она много раз писала его обнаженным. Они ходят развлекаться и выпивать втроем. А Морис несчастен и страдает эпилепсией.
После этой фразы я смотрю на полулежащего на столе Мориса с сочувствием. В нем есть что-то, что меня привлекает, особенно сейчас, после того, как я узнал о его болезни. Макс продолжает:
— В их жизни есть эпизоды для романа, полного волнующих страстей. Они живут втроем в скромном доме, Сюзанна зарабатывает продажей своих картин и картин сына. Работы Андре не очень хорошо продаются. На Монмартре их называют «проклятой троицей».
— Я не вижу в них ничего проклятого. — Мануэлю не нравится это прозвище. — Андре действительно любит Сюзанну. Я никогда его не видел с другими женщинами. Она много развлекалась в прошлом, а сейчас, похоже, остепенилась. Про Мориса можно лишь сказать, что если бы не его ужасное детство, он был бы другим человеком.
Я заинтересован еще больше.
— А какое у него было детство?
— Сейчас Сюзанна спокойная, уравновешенная, она всегда рядом с Морисом. Молодость же ее была бурной, ей нравилось гулять по ночам, встречаться с мужчинами. Мориса она бросала одного.
Макс уточняет:
— Сюзанна знает, что это ее ответственность и что бесхарактерность Мориса — в том числе и ее вина. Что ужасно, так это насмешки и издевательства в отношении Мориса. Даже художники и люди широких взглядов плохо с ним обращаются. Богемный образ жизни их не сдерживает. Буржуазное поведение сложно изменить.
После того, как мы поели, мои друзья принялись пить. Насколько я понял, все нашли деньги на этот вечер, чтобы оплатить счет Розалии. Я больше не в состоянии оплачивать обеды и ужины за всех, я уже потратил половину привезенных с собой денег. Пошли слухи, что Модильяни всех угощает. Я не работаю, плачу за жилье, за еду и за обучение в академии Коларосси. Впрочем, своей первоначальной щедрости я обязан тем, что принят в круг художников.
Тучный молодой человек с приятным, мягким лицом и слегка изогнутым носом разговаривает с Максом Жакобом. Молодой человек одет как денди, но весь вспотел, как будто долго бежал. Он поворачивается ко мне по указке Макса и улыбается. Я улыбаюсь в ответ. Они знаком подзывают меня к себе.
— Амедео, познакомься, это Гийом Аполлинер.
— Очень приятно.
Я протягиваю ему руку, он ее пожимает и удерживает.
— Я очень рад знакомству. В конце концов, Париж — большая деревня. Особенно в нашем окружении. Слух уже распространился.
— Простите, какой слух?
— Прошу тебя, давай на «ты».
— Хорошо. Так какой слух распространился?
— Что один молодой итальянец дискутирует с Пикассо на равных, привлекая всеобщее внимание.
— А это странно?
— Знаешь, это не я решаю. Это решают люди, которые вас слышали. Я спрашивал у Макса его «трактовку».
— А нужен трактовщик?
— Разумеется. Кто-то, кто умеет рассказывать с должным мастерством и критической основательностью.
— Вы хотите сказать, что пара слов, которыми я обменялся с Пикассо, во всем этом нуждается?
— Ты хочешь умалить свои достижения? Это редкость в Париже. Здесь скромность не популярна. Но если ты, напротив, решил принизить Пикассо, то такое здесь тем более не приветствуется.
Макса очень веселит слушать Аполлинера и смотреть на мое недоверчивое и изумленное лицо. Гийом же продолжает:
— Если же, насколько я понимаю, ты преуменьшаешь важность вашей встречи, тогда я тебе скажу, что ты не умеешь пользоваться случаем.
— Каким случаем?
— Во-первых, показать свои картины Пабло. Во-вторых, показать свои картины другим художникам. В-третьих, показать свои картины владельцам художественных галерей.
— Но у меня нет картин.
Гийом резко поворачивается к Максу Жакобу:
— Как же так? Ты мне сказал, что он художник.
— Мне так сказал Мануэль Ортис де Сарате.
— Да, я художник, я бы хотел и ваять, — но я еще ничего не сделал в Париже.
Макс гладит меня по голове и говорит в шутку:
— Бедненький, он приехал пару месяцев назад. Ему нужно дать время.
— Пару месяцев? Почему же мы раньше не встречались?
Макс все больше веселится.
— Я задаюсь тем же вопросом, я сам только сегодня с ним познакомился. Мой дорогой Гийом, иногда жизнь несправедлива.
— До такой степени?
Они подшучивают надо мной! Гийом кладет руку мне на плечо.
— Пользуясь общими знакомствами, я тебя попрошу в следующий раз предупреждать о своем намерении куда-то пойти, как сегодня. Я должен приносить пользу парижскому художественному бомонду и, в соответствии с контрактом, должен быть в курсе всего происходящего.
— С контрактом? Каким контрактом?
— С самим собой. Я выполняю неблагодарную работу писателя, поэта и, прежде всего, критика.
— Ты художественный критик?
Макс приходит мне помощь, все так же шутя:
— Критик, который ничего не понимает в искусстве, в особенности в живописи, и не может отличить олеографию от оригинала.
— Отсутствие знаний техник разве мешает быть знатоком красоты?
— А ты знаток?
— Определяющая фигура в создании чужой славы. Помни об этом.
Макс отпускает язвительную шутку:
— Аполлинер может объявить человека гением с такой уверенностью, что заставит всех в это поверить.
— Неблагодарное дело. Я бы хотел, чтобы кто-то сделал нечто подобное в отношении моей поэзии и литературных произведений.
— Друг мой, достаточно найти кого-то, кто не разбирается в литературе так же, как и ты в искусстве.
— Я заслужил доверие благодаря некомпетентности. Амедео, ты уже принадлежишь к какому-либо художественному течению?
— Я не знаю, в Италии не так много художественных течений…
Он меня перебивает:
— Я говорю о Париже.
— Нет, я здесь еще не думал о том, к какому течению…
— В предстоящие месяцы многое произойдет, и, знаешь, некоторые итальянцы двигаются в этом направлении с помощью нашего друга Джино Северини.
— Да, мне кажется, я понимаю, о чем ты.
— Ладно, когда ты решишь, к какому течению принадлежишь, скажи мне об этом; так ты избавишь меня от ненужных усилий. Знаешь, как порой сложно установить этот факт про художника, основываясь лишь на незначительных нюансах? Трактовка меня сильно утомляет и смертельно надоедает.
У меня страшное желание выкурить тосканскую сигару. Розалия заказывает сигары в Италии, я купил у нее пару штук и вышел покурить. Ночной воздух прохладен, приближается парижская весна. Мне нужно подумать о том, что сказал Аполлинер. Я никто, я делаю только наброски, не принадлежу ни к какому направлению, стилистические течения мне не интересны.
Хлопает дверь ресторана. Я оборачиваюсь и вижу, как выходит Морис, шатаясь и держась за кирпичную стену. Он доходит до угла и сгибается; его рвет, из него выходит все выпитое вино. Затем он, качаясь, доходит до дерева и грузно садится на землю. Он сидит неподвижно, опираясь спиной на ствол. Я подхожу к нему.
— Все в порядке? Тебе плохо?
— Плохо? Я не знаю.
— Тебя только что вырвало.
— Правда?
— Я могу тебе помочь?
— А ты доктор?
— К сожалению, нет.
— Ты же тот итальянец, который к нам подходил?
— Да, мы уже познакомились, меня зовут…
— Амедео?
— Да, верно.
— Видишь? Не такой уж я и пьяный.
— Действительно.
— Я сын Валадон, Морис. — Он рассмеялся. — Да, Морис. Сын Валадон… Но моя фамилия не Валадон. — Он продолжает смеяться. — Моя фамилия — Утрилло, Морис Утрилло, художник и литограф. Что это за вонючая штука, которую ты куришь?
— Тосканская сигара…
— Что тебе это дает?
— В каком смысле?
— Тебе становится хорошо?
— Это просто итальянская сигара.
— А зачем ты ее куришь?
— У нее приятный аромат.
— Только из-за этого? У нее нет другого эффекта?
— Например?
— Забыться.
— Я не хочу забыться.
— Везет тебе. А я должен.
— Должен? Никто не должен. В любом случае это просто сигара; я даже не затягиваюсь.
— А какой в ней смысл?
— А все должно иметь смысл?
— Не для меня… но я всего лишь сын Валадон. Для меня ничто не имеет смысла, особенно если я недостаточно пьян.
— Ты сложный тип.
— Вовсе нет. Достаточно посмотреть на мои картины. Самые банальные в Париже.
— А кто это говорит?
— Все. Если и не говорят, то думают так. Картины моей матери интереснее.
Морис улыбается и облокачивается головой о ствол дерева.
— Модильяни, должно быть, ты прекрасный человек. Скажи мне, что ты здесь делаешь?
— А ты что тут делаешь?
— Я здесь родился.
— А я приехал сюда, потому что все говорили только о Париже.
— Тебе нравится?
— Как Париж может не нравиться?
— Я тоже так говорю. Как может не нравиться этот город? Ведь я его рисую. Непрерывно. Поэтому говорят, что я банален. Потому что пишу то, что уже существует.
— Мои тосканские учителя пишут только пейзажи. Маккьяйоли.
— Ты произнес это слово как оскорбление.
— Нет, просто мне это неинтересно.
— Значит, я тебе тоже буду неинтересен.
Морис поворачивается и смотрит на меня какое-то время.
— Модильяни, ты не выглядишь счастливым.
— Ты тоже.
— Одни отчаиваются, когда теряют богатство. Мне же до богатства нет дела. Другие отчаиваются, когда теряют здоровье. Я немного беспокоюсь о здоровье, но не слишком. Знаешь, почему?
— Почему?
— Потому что у меня его никогда не было. Чего мне действительно не хватает, так это мужества противостоять всему. Оно приходит и уходит, но в основном уходит.
Спустя лишь пару минут после знакомства я уже чувствую, что он такой же, как я. Это самый гуманный человек из всех, кого я встречал в Париже. Он первый, кто не говорит сразу же об искусстве, работе, течениях, бомонде. Я словно смотрю в зеркало, которое отражает мою невозможность противостоять каждому дню.
— Модильяни, ты богат?
— Я? Я тебе кажусь богатым?
— Да. Ты элегантно одет, у тебя аристократический вид. Что ты делаешь среди этих людей, у которых нет ни гроша?
— Я не богат.
— Если ты не богат, то тебе не следует им казаться, иначе они сдерут с тебя все деньги. Ты давно с ними общаешься?
— С Мануэлем и Джино я познакомился в Венеции. С остальными недавно.
— Тебе нравятся женщины?
— Это странный вопрос.
— Нет. Если тебе нравятся женщины, то тебе нужно общаться с Джино, а если мужчины, тогда с Максом.
— Я предпочитаю женщин. А тебе кто нравится?
— Женщины. Но я им не нравлюсь.
— Возможно, тебе следует меньше пить?
— Я им не нравлюсь, даже когда я трезв. Ты, напротив, нравишься и мужчинам, и женщинам, и трезвый, и пьяный.
— Это комплимент?
— Разумеется.
В этот момент из ресторана выходит Джино — с четырьмя девушками, милыми, веселыми и возбужденными.
— Амедео, какие планы? Идешь с нами?
— Куда?
— Одна из этих девушек выступает с песнями и танцами в очень необычном месте.
— В каком?
— В квартире Мануэля.
— Отлично! Морис, ты присоединишься к нам?
— Я? Нет, я на ногах еле держусь.
Мануэль выходит из ресторана вместе с Людвигом. Я смотрю на Мориса.
— Ты правда не сможешь идти?
— Ты сомневаешься? Поверь, я буду обузой. Я не смогу произвести хорошее впечатление, как ты. Иди, Модильяни! Осеменяй Париж!